Наталья Рожкова
Часто, когда представляют читателям новое издание, желая заинтриговать, пишут: «перед вами необычная книга». И приходится гадать: а что необычного-то? Но данная книга* соответствует этому критерию.
Во-первых, не всякая литература, выпущенная более тридцати лет назад, может быть переиздана без изменений и читаться буквально «взахлёб».
Во-вторых, произведение, ориентированное на учащихся старших классов, открывает много нового для читателя, как говаривал Салтыков-Щедрин, «изрядного возраста».
В-третьих, это — одновременно и роман о жизни классика отечественной литературы, и познавательное чтение, и литературоведческое исследование.
В-четвертых — нельзя не отметить небольшие, но запоминающиеся штрихи: портрет на обложке незнакомого молодого человека. Это — малоизвестное изображение писателя, очень не похожее на привычный облик в пенсне и с бородкой, выполненное его братом-художником. И — полное совпадение инициалов героя книги — Антона Павловича Чехова, и ее автора, Александра Павловича Чудакова.
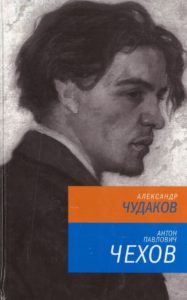 Перу известного литературоведа принадлежат монографии «Поэтика Чехова (1971), «Мир Чехова» (1986), «Слово-вещь-мир. От Пушкина до Толстого» (1992), статьи о Пушкине, Гоголе, работы по истории русской филологической науки. Все они выдержали испытание временем, хотя большинство из них создано в эпоху цензурных ограничений. В последние годы жизни ученый трудился над полной чеховской библиографией, составлял «тотальный комментарий» к «Евгению Онегину», мечтал опубликовать мемуары. Однако этим грандиозным замыслам не суждено было сбыться: в 2005 году Александр Павлович трагически погиб. Исследователь русской литературы Ирина Сурат написала о нем: «Жить — это делать то, что другой за тебя не сделает». Чудаков жил и делал свое дело. И успел многое. Его многолетняя научная и преподавательская деятельность замечательным образом увенчалась выходом романа «Ложится мгла на старые ступени…», впервые опубликованного в 2000 году. Произведение утонченного ценителя слова, знатока подлинной классической литературы, обрело заслуженный успех: в 2011 году роман получил премию «Русский Букер десятилетия». К моменту триумфа Александра Павловича уже не было на свете. Он оставил свой бесценный опыт понимания жизни, изложенный в художественной форме.
Перу известного литературоведа принадлежат монографии «Поэтика Чехова (1971), «Мир Чехова» (1986), «Слово-вещь-мир. От Пушкина до Толстого» (1992), статьи о Пушкине, Гоголе, работы по истории русской филологической науки. Все они выдержали испытание временем, хотя большинство из них создано в эпоху цензурных ограничений. В последние годы жизни ученый трудился над полной чеховской библиографией, составлял «тотальный комментарий» к «Евгению Онегину», мечтал опубликовать мемуары. Однако этим грандиозным замыслам не суждено было сбыться: в 2005 году Александр Павлович трагически погиб. Исследователь русской литературы Ирина Сурат написала о нем: «Жить — это делать то, что другой за тебя не сделает». Чудаков жил и делал свое дело. И успел многое. Его многолетняя научная и преподавательская деятельность замечательным образом увенчалась выходом романа «Ложится мгла на старые ступени…», впервые опубликованного в 2000 году. Произведение утонченного ценителя слова, знатока подлинной классической литературы, обрело заслуженный успех: в 2011 году роман получил премию «Русский Букер десятилетия». К моменту триумфа Александра Павловича уже не было на свете. Он оставил свой бесценный опыт понимания жизни, изложенный в художественной форме.
В аннотации к книге «Антон Павлович Чехов» говорится, что на ее страницах «показывается, какие условия, обстоятельства, впечатления детства и юности подготовили неповторимое восприятие мира, как из сотрудника юмористических журналов вырос великий писатель, открывший новую страницу в мировом искусстве». Не секрет, что немало страниц биографической литературы (особенно серия «ЖЗЛ» этим грешит) посвящены описанию сентиментальных подробностей детства и юности главного героя, порой совершенно «проходных», с его дальнейшей деятельностью не связанных. Чудаков подошел к данному вопросу не стереотипно. Каждая деталь в повествовании несет значительную смысловую нагрузку. И начинает он не с семьи и даже не со среды, где формировался будущий классик, а с географического и исторического описания города — истока жизненного пути Чехова. В первой главе, которая называется «Два лика города Таганрога», исследователь пишет:
«Общий уклад был как везде — с лавками, трактирами, ежегодной шумной ярмаркой, смотром гарнизона в табельные дни, пустырями, заросшими бурьяном, масляными фонарями и местным дурачком на бойком перекрестке.»
Таганрог ощущал себя городом морским. В 1874 году, в связи с получением известий о претензии Ростова на статус губернского города, «Азовский вестник» (24 марта) выразил протест, ибо: центр будущей губернии, конечно, есть Таганрог, Ростов же находится в углу; народонаселения в Таганроге нисколько не менее, а в навигацию, с приходом иностранных судов, оно увеличивается почти на двенадцать тысяч; все иностранные консулы ни под каким видом не покинут Таганрог; капитаны кораблей, оставляя суда на рейде с частью экипажа, не могут удаляться от них.
В статистических сведениях о жителях города по сословиям была графа: вольные матросы. Открытый в 1874 году Таганрогский мореходный класс давал выпускникам дипломы штурманов малого плавания.
Крупная торговля накладывала отпечаток на всю жизнь и представления жителей города. Обычные приказчики чувствовали себя приказчичьей аристократией, «которая дерет нос оттого, что живет не в Бахмуте, а в портовом городе» (Чехов — М.М. Чехову, 1877).
Город жил не только торговлей, но и огромных размеров контрабандой, существовавшей почти официально. Таганрогский негоциант Вальяно (его имя не раз упомянет Чехов) ввозил контрабандные товары не в чемоданах с двойным дном, но целыми пароходами. Для их разгрузки у него была зафрахтована флотилия турецких фелюг.
На улицах звучала разноязыкая речь. В ясные дни тротуары ближних к порту улиц были запружены толпой — здесь были греки, турки, французы, англичане… Когда Чеховы жили в доме Третьякова, над лавкой Павла Егоровича (отца писателя). располагалось казино мсье Трилля. Рядом была гостиница «Лондон», по вечерам там играл дамский оркестр, туда приходили моряки. Ходили слухи о похищении девушек для турецких гаремов.
Необычным для русской провинции был таганрогский театр. Несколько сезонов в городе гастролировала итальянская опера.
 Может быть, благодаря второму лику Таганрога острее ощущалась «лень и скука» первого?
Может быть, благодаря второму лику Таганрога острее ощущалась «лень и скука» первого?
«Там всё Европой дышит, веет», — писал о другом приморском городе, Одессе, Пушкин. В Таганроге, как говорил Чехов, лишь «пахло Европой», но и этого хватало, чтобы почувствовать, что «кроме этого мирка, есть ведь еще и другой мир».
Пройдет время. Чехов узнает жизнь столиц, увидит Рим, Париж, Коломбо, трезво оценит Европу, но непреодолимое чувство — тяга к «другому миру», — в пространстве ли (в Алжир, на Север), во времени ли (через 200—300 лет), останется, и не раз он выскажет его сам и выскажут его герои.
Чудаков показывает, как менялось мировоззрение Антона, в ранние годы желающего стать состоятельным мещанином, до полного отторжения мещанского образа жизни. «Тяжесть такого быта — в утомительном однообразии, бессмысленной повторяемости домашних дел, которые на другой день в том же количестве набегают снова, в их отупляющей нескончаемости, что особенно тяжко для юного сознания, которое заполняется этим целиком. Но не только для юного — позже Чехов покажет, как при постоянном контакте с недуховным, при отсутствии внутреннего сопротивления человек погружается в «бытовое» полностью, как мир духовный целиком замещается миром вещно-бытовым.» К сожалению, это не утратило актуальности. «Я страшно испорчен тем, — писал Чехов, — что родился, вырос, учился и начал писать в среде, где деньги играют безобразно большую роль».
Исследователь дает тщательную характеристику обстановке, сопутствующей будням малой юмористической прессы конца XIX столетия, с которой связано раннее творчество Чехова, литераторам, работавшим в этом жанре. Установка на комический тон, выискиванье смешного во что бы то ни стало влекли к балагурству и в серьезных вопросах. Так, журналу «Стрекоза» показалось очень смешным, что приехавший из Москвы философ, на лекции которого ходит весь Петербург, очень молод, и он писал о нем в таком тоне: «Володенька приехал от папаши из Москвы «лекции цытать» о позитивизме… Володенька еще только в годах Митрофана Простакова: ему всего двадцать два года (хотя герою Фонвизина было шестнадцать. — Н. Р.), но прытью он давно перешагнул седовласых старцев… Бедный Огюст Конт, злосчастный Летре! Володя всем им пальчиком рожи чернилами вымажет.» Этот «Володенька» был известный философ Владимир Соловьев. Приведенный пассаж появился в постоянном юмористическом обозрении «Стрекозы» — «Всякие злобы дня» (1878, № 7).
Жанр «мелочей» рано начал тяготить Чехова. Особенно трудно давались ему самые ходкие в иллюстрированном юмористическом журнале подписи к рисункам: «Легче найти 10 тем для рассказов, чем одну порядочную подпись», — признавался он в одном из писем, датированном 4 ноября 1885 года.
 Однако Чудаков не стремится объявить сотрудничество с юмористическими журналами — носителями «низкого штиля» чем-то бесполезным для дальнейшего творчества писателя. Он, в частности, отмечает, что юмористический рассказ всегда исходит из конкретной ситуации. В ранних произведениях Чехова эта ситуация обозначается в первой же фразе. Мы еще почти ничего не знаем, кто, но нам уже сообщено, где и что. «На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий» («Толстый и тонкий», 1883); «У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы» («Лошадиная фамилия», 1885).
Однако Чудаков не стремится объявить сотрудничество с юмористическими журналами — носителями «низкого штиля» чем-то бесполезным для дальнейшего творчества писателя. Он, в частности, отмечает, что юмористический рассказ всегда исходит из конкретной ситуации. В ранних произведениях Чехова эта ситуация обозначается в первой же фразе. Мы еще почти ничего не знаем, кто, но нам уже сообщено, где и что. «На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий» («Толстый и тонкий», 1883); «У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы» («Лошадиная фамилия», 1885).
В поздней чеховской прозе ставятся сложнейшие общественно-психологические проблемы. Но они опять-таки не обозначаются автором прямо, как центральные в сюжете. Сюжет не строится вокруг какой-либо из них, как у Достоевского, или вокруг истории героя, как у Тургенева, Гончарова. В основе по-прежнему оказывается конкретная жизненная ситуация, тоже часто называемая сразу: «Андрей Васильевич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы» («Черный монах»); «Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Берне…» («Дама с собачкой»). Можно бы сказать, что все вопросы всегда решаются в чеховском произведении на некоем бытовом фоне, но это было бы неточно: быт не фон, не задник сцены, он внедряется в самую сердцевину сюжета, сращен и переплетен с ним.
Чудаков отмечает, что природа для Чехова — часть его существования. Времена года — важные этапы жизни. Любая перемена погоды — явление, равноценное литературным, общественным делам: о дожде, снеге писатель упоминает в письмах в одном ряду с ними. Прилет птиц — крупнейшее событие, он пишет о нем Суворину в марте 1891 года вместе с сообщением о работе над «Дуэлью». Со вниманием и волнением вглядывается он в природу во время сибирского путешествия и с восторгом сообщает в письмах к нескольким корреспондентам, что целый месяц видел солнце от восхода до заката.
Всем этим Антон Павлович обязан своему степному детству. Связь с природой он всю жизнь ощущал очень остро; его настроение барометрически реагировало на погодные изменения. В своих рассказах писатель показал глубокое влияние состояния природы на психику человека. Человек «оприрожен», природа — очеловечена. Деревья, цветы, облака, собаки, волки чувствуют и думают, как люди («Агафья», «Каштанка», «Белолобый», «Страх»). Они огорчаются, радуются, волнуются, грустят.
О природе и животных писали многие. Сочинения Аксакова, Пришвина останутся навсегда — в будущем, быть может, они предстанут как описание прекрасного облика прежней планеты и удивительных животных, которых уже давно нет.
Однако, по мнению Чудакова, сейчас нам, пожалуй, важнее опыт Чехова, который писал не об уникальной жизни человека наедине с природой в краю непуганых птиц, а о повседневном общении с ней человека современной цивилизации в условиях города, квартиры, пригородной дачи. В произведениях и в собственной жизни Чехов дал образцы истинной этики человека в его общении с братьями нашими меньшими.
«Милый Алексей Николаевич! На дворе идет дождь, в комнате у меня сумеречно, на душе грустно» (А. Н. Плещееву, 31 марта 1888 года).
Таких признаний множество: «Солнце светит вовсю, снега нет, и мороз слегка щиплет за щеки. Сейчас я гулял по Невскому. Все удивительно жизнерадостно, и когда глядишь на розовые лица, мундиры, кареты, дамские шляпки, то, кажется, что на этом свете нет горя…» (М. Е. Чехову, 13 марта 1891 года). «Я думаю, что мой «Леший» будет не в пример тоньше сделан, чем «Иванов». Только надо писать не зимой, не под разговоры, не под влиянием городского воздуха, а летом, когда всё городское и зимнее представляется смешным и неважным. Летом авторы свободнее и объективнее. Никогда не пишите пьес зимой […]. В зимние ночи хорошо писать повести и романы…» (А. С. Суворину, 8 января 1889 года).
На Сахалине «небо по целым дням бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дня в день, кажется жителям бесконечною. Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди стали жестокими и многие добряки и слабые духом, не видя по целым неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь» («Остров Сахалин»).
Зимними холодными вечерами в ялтинском доме он был один. Рано темнело, за окнами выл ветер («ветер дует, как в четвертом акте «Чайки»), по крыше стучал дождь… Сад был главной радостью. К его посадке Чехов подошел так же серьезно и основательно, как ко всему, что он делал. Читал специальную литературу (на подаренной М. Лавровым книге П. Золотарева «Флора садоводства» — многочисленные пометки); в тетрадку «Сад» им занесено 159 латинских ботанических названий растений. Саженцы и семена он выписывал из Одессы, из садового заведения «Синоп» в Сухуми, заказывал в Никитском ботаническом саду. Каждое дерево был посажено собственными руками — этого не доверял никому. К лету 1903 года в саду уже росли кедр атласский, магнолия, хурма китайская, гледичия, ива вавилонская, абрикосовые, грушевые деревья, кипарисы. Все было продумано. Когда Мария Павловна предложила посадить каштан, Чехов писал ей: «Каштан широкоразвесист, он займет половину сада, а сад и так мал. Погоди, через 2—3 года ты увидишь, что я посадил именно то, что нужно. Думаю, что это так, ибо я прежде, чем сажать, размышлял очень долго».
«Произошло чудо: у меня в саду в грунту зацвела камелия — явление в Ялте, кажется, небывалое» (М. О. Меньшикову, 20 февраля 1900 года). Чехов шутил, что если бы не был писателем, то стал бы садовником. Но в последние годы ухаживать за садом становится все труднее: «После каждого куста приходится отдыхать» (О. Л. Книппер, 5—6 февраля 1902 года).
В ялтинских письмах не меньшее место, чем в мелиховских, занимает «собачья» тема: Чехов пишет о характерах этих животных, их привычках, о том, как лечит их. Кроме признанных друзей человека, во дворе жили два ручных журавля; они важно ходили по саду.
«Кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель и его до самой смерти будет потягивать на волю» («Крыжовник»).
Подобное единение с природой — ступень к космическому пониманию мироздания. Достаточно вспомнить начальный монолог Нины Заречной из «Чайки», хотя нам не суждено узнать, о чем была пьеса Треплева:
«Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли… Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах…» Этот «декадентский бред», по мнению Аркадиной, созвучен фетовскому стихотворению «Никогда»:
Ни зимних птиц, ни мошек на снегу.
Всё понял я: земля давно остыла
И вымерла. Кому же берегу
В груди дыханье? Для кого могила
Меня вернула? И мое сознанье
С чем связано? И в чем его призванье?
Куда идти, где некого обнять,
Там, где в пространстве затерялось время?
И — возвращение от необозримых высот к человеку. Особенно это ощутимо в рассказе «Архиерей», написанном в 1902 году, и повести «Скучная история» (1889). Вроде бы, между священнослужителем и «заслуженным профессором» нет ничего общего — герои принадлежат к разным социальным группам. В то же время в центре обоих произведений — история человека, который в предчувствии близкого конца производит переоценку ценностей, чтобы убедиться, что в его жизни не было «чего-то самого важного».
Чудаков не только раскрывает читателям человечность прозы Чехова. Он также набрасывает его личностный портрет. Вскоре по приезде в Ялту писатель столкнулся с одной чертой здешней действительности, не бросающейся в глаза на фоне общей курортной жизни, — с тяжелым положением туберкулезных больных. Они съезжались со всей России; большинство из них составляли неимущие. Но больные знали, к кому идти, и не ошибались. Чехов устраивал их на квартиры, оплачивал эти квартиры, хлопотал об определении в приют для хронических больных, о врачебных консультациях и тому подобное.
Сначала он действовал только сам, но скоро начинает принимать деятельное участие в работе ялтинского попечительства о тех, кто страдает недугом, избирается уполномоченным по собиранию средств. В сентябре Антон Павлович написал воззвание о помощи чахоточным, которое напечатали многие газеты и журналы. Как вспоминал современник, «страстный призыв Чехова «На помощь умирающим!» облетел всю Россию. Кажется, ни одно воззвание не имело такого успеха, как воззвание Чехова. Пожертвования посыпались со всех сторон».
В составленном в 1901 году завещании, адресованном сестре, писатель указывал: «Я обещал крестьянам села Мелихова сто рублей — на уплату за шоссе; обещал также Гавриилу Алексеевичу Харченко […] платить за его старшую дочь в гимназию до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение. Помогай бедным».
Ценность книги — и в описании судеб братьев писателя. Александр Чехов был старший. Обладал ли он талантом? Антон Чехов ценил некоторые его рассказы, и очень высоко — письма, которые считал «первостатейными произведениями». «Пойми, — писал он брату, — что если бы писал так рассказы, как пишешь письма, то давно бы уже был великим, большущим человеком». Действительно, Ал. П. Чехов умел зафиксировать деталь, передать чувство, настроение. (Будущий исследователь покажет влияние этих писем на поэтику прозы Антона Чехова). Но дарование это проявлялось только в эпистолярном жанре. Ему было очень просто написать письмо объемом в 5—6 книжных страниц, включающее несколько живых сцен и метких описаний, и очень трудно сделать еще одно усилие — быть может, главное — соединить это в целое и, отделив от себя, художественно объективировать. Как письмо все это было блестяще, однако для рассказа этого явно недоставало.
Другой брат, Николай — даровитый художник, занимался станковой живописью. Самая удачная его картина — «Молодая вдова на могиле мужа», полотно приобрел купец Кувшинов за очень приличную по тем временам сумму — сто рублей. К сожалению, успех повторить не удалось, и Николай зарабатывал уже иллюстрациями, в том числе, к рассказам Антона. Богемный образ жизни спровоцировал скоротечную чахотку, от которой он в тридцать с небольшим лет скончался.
Иллюстрации к книге Чудакова хочется разглядывать долго. Фото небогатого дома, где родился Антон Павлович. Короленко, Лейкин, Суворин, Левитан… Лика Мизинова распахнута, развернута к Чехову, а он смотрит перед собой, руки скрещены. Вера Комиссаржевская в роли Нины Заречной. Чехов с Горьким и Львом Толстым. С супругой Ольгой Леонардовной — лица у обоих светятся улыбкой (вообще, Чехов на фото практически никогда не улыбался)…
Недавно ушедший выдающийся литературовед Сергей Бочаров, проработавший 61 год в Институте мировой литературы имени А. М. Горького, писал о Чудакове: «В последнем опубликованном тексте Александра Павловича сказано: «Но для сознания эмпирический мир гетерогенен и отдельностен». Последнего слова нет в живом языке, оно образовано специально как термин — персональный термин Чудакова: «отдельностность» предмета в его картине поэтики Пушкина. Ну, а в классической «Поэтике Чехова» все помнят «случайностность» — не «случайность», «случайный», а «случайностность» и «случайностный». Такие терминологические изыски должны иметь оправдание — открывать нам то, чего без них не открыть. Терминологические эпатажи были во вкусе ОПОЯЗа, на который равнялся А. П. и хранил ему присягу на верность, — однако тут, похоже, слышится иная мыслительная традиция. Не просто случай, случайная случайность, а «собственно случайное, имеющее самостоятельную бытийную ценность» — это тогда нам заново осветило Чехова».
ЗС 6/2018
* Александр Чудаков, «Антон Павлович Чехов», М., Время, 2013, 256 стр.



